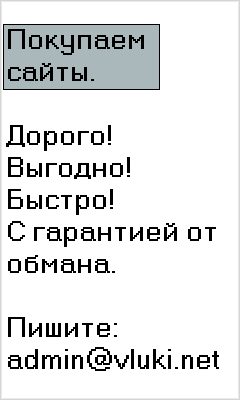Актерский дневник 30.04.12 Максим Якубсон В минувшую субботу, 28 апреля, в центральной городской библиотеке на Конной питерский режиссер-документалист Максим Якубсон представил два своих фильма - «Продавец лимонов» и «Право переписки». Для первого из них это премьера. Просмотр в Петербурге, на студии документальных фильмов, намечен на 17 мая. Роальд Мандельштам В том, что первыми зрителями «Продавца лимонов» стали псковичи, мне видится особый знак. Фильм о поэте. Имя поэта - Роальд Мандельштам. Свое однофамильство он пометил эпиграммой: Здесь жил Мандельштам, Но не тот Мандельштам, А тот Мандельштам Давно уже там. Роальд Мандельштам, рисунок Александра Траугота Но давно уже там и этот. «Он был болен костным туберкулезом и знал, что скоро умрет», - сообщают титры. Он умер полвека назад, прожив 28 лет и не увидев напечатанной ни одной своей строки. След его в поэзии глубок и неизгладим. И не его беда, что мы его не знаем. Это беда времени. Месяц назад там же, на Конной, а потом и на филфаке университета, прошли творческие встречи поэта Петра Брандта, тоже питерца, но рожденного в Пскове (родители прожили здесь несколько послевоенных лет, по сути, в ссылке). Мне на правах старой дружбы выпала честь его представить. И вот теперь, представляя Пскову новый фильм Максима Якубсона, с которым Брандт познакомил нас несколько лет назад, я вспомнил эпизод туманной юности, связанный с первым впечатлением от поэзии Роальда. Было это на исходе зимы, я жил тогда в Москве. Петр позвонил с вокзала, и мы встретились у метро. Был он необыкновенно возбужден, как будто не было ночи в поезде, как будто не выпускал он из рук обжигающих страниц только что открытого поэта: - Старик, ты не представляешь, какой это поэт! И - подумать только! - мы его не знали… Мы шли через сквер, валил густой снег, и вместе с крупными хлопьями мелькали в воздухе строки: Кто остановит вагоны, Нас закружило кольцо, Мертвой чугунной вороной Ветер ударил в лицо… ……………………………… Конечно, в лужах есть окошко, Распахнутое в небосвод. В него, нагнувшись, смотрит кошка – Лакая воду, небо пьет… ……………………………… Нам ли копить тревоги, Жить и не жить, дрожа, - Встанем посредь дороги, Сжав черенок ножа!.. Да, здесь ощущалось то, чего искала душа, которая, со свойственным ей тогда максимализмом, откликалась мгновенно. Виделся новый флаг, и мы с готовностью становились под него. Почти буквально: Я резок, как пушечный выстрел, Как ветром освистанный флаг!.. В театральном институте на лекциях по Шекспиру исследовалось, почему Гамлет медлит с местью, почему после того, как открылась правда о смерти отца, у него вместо клинка в руке – «Быть или не быть?..» Зато у Роальда: …Жалок Шекспир, и чего он таится Гамлет – трагический макроцефал, Нет, над вопросами датского принца Я головы не ломал. Это было то, что искалось: жизнь на пределе. Его поэзия сильна его жизнью. «Неистовый скальд», - назовет потом Брандт свою статью о Роальде, который жил, измотанный, измученный болезнью, – как воин перед гибелью, не оставляя себе ни щелочки для компромисса. Как его Гектор: Ярче тоскующих губ Рано восток заалел. Бьются на радость врагу Крылья моих каравелл. ………………………… Воет томительный рог. К бою готовы друзья. Нету окольных дорог – Жить побежденным нельзя! В фильме за кадром – голос Брандта. Он читает стихи Роальда. А в кадре… Я видел несколько фильмов Максима Якубсона, одного из интереснейших, на мой взгляд, авторов современного документального кино. Со времени окончания ВГИКа в 1994 г. он – режиссер Санкт-Петербургской студии Документальных фильмов. Не далее как в январе в Пскове был представлен его большой (две части по 39 минут) фильм о нашем священнике Павле Адельгейме, - «Один день отца Павла». А еще были «Параллелошар» о доме художников на Пушкинской, 10 в Петербурге, «Зодчие города солнца» (приз имени Саввы Кулиша на Выборгском фестивале «Окно в Европу»), «Гора стихотворение» о Бурятии. Знакома мне и вторая работа, представленная режиссером в Пскове, уже удостоенная лауреатских дипломов на фестивалях в Харькове и Екатеринбурге, – фильм «Право переписки» (2008 г.) - тонкое, живое повествование о письмах – связующих нитях человеческого общения. Простые почтовые письма, их живое дыхание, кажется, сходят на «нет» в неотвратимо царствующем мире виртуально-мобильных связей, но неспешное повествование «Права переписки» с его незамысловатыми строками и словами любви, спрятанными в бумажные конверты, вдруг раскрывает глаза на ценности мира иного, уходящего, уже почти потерянного нами. Есть два пути, два метода достижения художественного результата. В первом случае художник идет к видимой ему одному цели, всё ей подчиняя. В другом движется вперед, лишь предугадывая результат, лишь предполагая – с достаточной, впрочем, долей уверенности – что некий ключевой сюжетный ли, художественный ли прием обязательно себя откроет, нужно лишь создать условия и быть наготове. Вторых – отважных – не боящихся неожиданностей и не страхующихся от них, гораздо меньше. Максим из их числа. Он словно сажает семечко, не зная, что именно из него вырастет, но зная, что вырастет непременно, и надо лишь позаботиться, чтоб деревце – пусть неожиданной формы – было живым. «Ищущий да обрящет», - верит он, и, в конце концов, всегда слышит в ответ: «по вере твоей да будет тебе!» Так случилось с «Одним днем отца Павла», когда вдруг главным стержневым движителем «захотела» стать любовь – любовь священника к ближним – тем, с кем свела судьба, и чьей судьбой он человечески озабочен. Возможно ли объяснить любовь? Максим и не объясняет. Он скорее созерцает, всматривается и вместе с нами пытается разглядеть ее источник. Так случилось и с «Продавцом лимонов». - Лунные лимоны! - Медные лимоны! Падают со звоном - покупайте их. Рассыпайте всюду Лунные лимоны - Лунно и лимонно в комнате от них. - Яркие лимоны! - Звонкие лимоны! Если вам ночами скучно и темно, Покупайте луны - Лунные лимоны, Медные лимоны - золотое дно. Путь и здесь был непрост. Основные персонажи - ближайшие друзья Роальда, художники «арефьевского» круга, названного по имени Александра Арефьева (для своих – Орех), живые – Александр Траугот, Валентин Громов, и уже ушедшие: сам Арефьев, Рихард Васми, Владимир Шагин, Шолом Шварц (для друзей Шаля). «Орден нищенствующих живописцев», - называли они себя. В их работах – ни на что не похожий образ времени 50-х, 60-х. Они творили вне принципов соцреализма и были свободны. «Они, - по словам режиссера, - стремились запечатлеть не столько реальный мир, сколько нечто тайное, неуловимо скрытое, объяснимое не иначе, как языком искусства. Они посвятили себя творчеству не для карьеры или заработка, не для известности и славы, а потому, что искусство – это то, чем стоит заниматься». Сохранился в их рисунках и образ Роальда Мандельштама. Главными же рассказчиками, а вернее сказать, свидетелями жития Роальда стали в фильме художники Александр Траугот и Валентин Громов. Лица стариков, их неторопливая речь, их размышления в кадре, вся их биография необыкновенно притягивают, магнетически фокусируют внимание зрителя на словах, речи, походке, жесте, на возникающих в кадре живописных работах, рисунках, скульптуре. Фильм был отснят и уже монтировался, но не хватало чего-то главного, стержневого. О том, что один из друзей Роальда, Шаля, написал на стене его комнаты в коммуналке «античную» фреску, Максим знал давно. Вспоминает о ней и Валентин Громов. Но теперь там живут другие люди, стены оклеены обоями… И все же попробовать стоило. И снова – «по вере твоей да будет тебе»: женщина, живущая в комнате Мандельштама и запомнившая его еще девочкой, дала согласие. Пригласили реставратора. И вот – на протяжении фильма – мы видим открытие фрески: отодвигается шкаф, в обоях вырезается сначала небольшой квадрат, затем обои снимаются полосами. Пошли в дело скребок, растворы… Открывшаяся картина – как финальный аккорд, напутствие и кредо, исполненное жизни последнее приветствие поэта нам, открывающим его для себя. Так и запомнится: три стоящие в профиль лучника в римских доспехах, готовые вот-вот спустить тетиву. И справа над ними строгая латинская надпись – VAEVICTIS – Горе побежденным! Вик. Яковлев